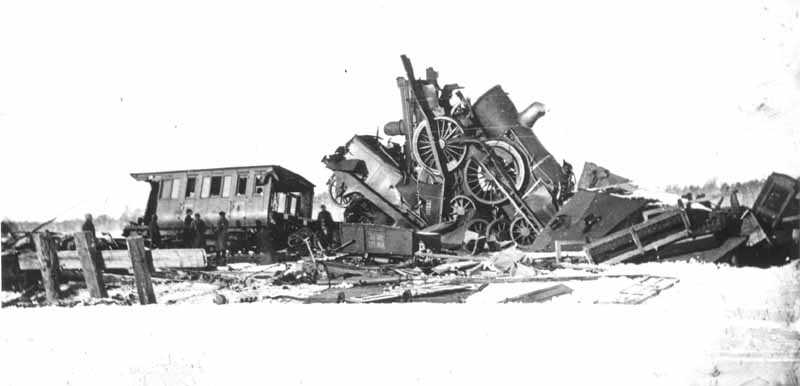Обсуждали намедни с подругами статью на Wonderzine про миф о парижанке. Вроде бы и понятно, что, как и любой миф, этот образ относится к сфере идеального и ничего общего с реальностью не имеет. Вроде бы и очевидно, что создан этот образ был рекламщиками, как и множество других архетипических образов, на которые призывают равняться девочек, девушек и женщин по всему миру корпорации, мечтающие задорого продать очередную порцию атрибутов, позволяющих приблизиться к "идеалу". И всё равно, многие на этот миф покупались, покупаются и будут покупаться: страдать от комплексов, мучиться, тщетно искать в ком-то тот самый идеал, тратить уйму денег, сил, времени, здоровья и нервов на то, чтобы приблизиться к недостижимому - а иначе говоря, исполнить желание Другого: быть тем, кем хочет, чтобы ты была, Другой, или быть с той, с кем хочет, чтобы ты был, Другой. И ведь если задуматься, то раз мифы не только не уходят в прошлое, но и вновь зарождаются, расцветая пышным цветом в обществе потребления, то наверное это кому-нибудь нужно - пожалуй, что даже (если не всем, то почти) всем. Что скрывается за этой попыткой превратить реальность в миф? Прятаться в этой сказке, в ужасе отступая перед проявлениями реального, периодически прорывающимися сквозь неё?
Была у нас как-то в универе интереснейшая лекция Ильи Владимировича Утехина (впрочем, как и все остальные его лекции), как всегда, обо всём понемножку. Не стоит недооценивать известную - точнее, даже избитую, - метафору "вся жизнь - театр": за ней кроются весьма глубокие и проницательные наблюдения. Театр - не то же самое, что кино: в театре всегда присутствует бóльшая условность, которую все зрители по умолчанию принимают и воспринимают происходящее на сцене так, как если бы оно происходило в действительности. На время спектакля зрители оказываются объединены испытываемыми ими чувствами, вовлеченностью в происходящее. Это что-то вроде таинства, в которое вас посвящают, и за что многие любят театр. Но мысли о том, чтобы сделать театральную условность более правдоподобной, конечно же посещали режиссёров-постановщиков. Были попытки привнести элементы реальности в происходящее на сцене - например, вместо бутафорских туш животных, развешенных в мясной лавке, пробовали повесить настоящие, - но они не увенчались успехом: настоящие туши издавали специфический запах, который мешал зрителям и актёрам погрузиться в действие. Оказалось, что реальность театру не нужна, она ему не подходит, не вписывается в театральные каноны. Как говорил Н.Н. Евреинов, "на сцене нужна не реальность, а репрезентация реальности."
Вернёмся от метафоры о театре к жизни: жизнь человека также не тождественна реальности. Представление о человеческом обществе как о надстройке над миром природы, созданной для того, чтобы наиболее эффективно удовлетворять потребности человека, неверно: наша жизнь не сводится к сугубо практическим действиям. Собственно, культура непрактична вообще. Например, в каком-нибудь африканском племени могут выбросить совершенно целый, пригодный к использованию горшок из-за того, что во время ритуала тот, кто произносил заклинание, запнулся; дикость - скажете вы? Другой пример: мы не едим сверчков, хотя они съедобны и питательны. Что нас останавливает? Чувство отвращения - совершенно иррациональное: просто в нашей культуре это не принято. Такой способ организации жизни, который избирает для себя та или иная культура, не является самым эффективным. Культура - это то, что делается "по приколу". Зачем нам это? Символизация, ритуализация поведения - это культурный метод освоения действительности.
Реальность невыносима. Нам нужна символизация, потому что без неё мы сойдём с ума. Непосредственные контакты с реальностью вызывают у нас слишком много эмоций.
Животные живут в неприкрытой реальности: они едят, совокупляются, рождают детёнышей, стареют и умирают, не обнося это всё какими-то ритуалами. Нет, хорошо, у некоторых животных есть "брачные" ритуалы, но такое поведение подчинено определённой биологической цели. Символическое поведение человека менее всего обусловлено биологическими причинами, оно максимально произвольно - и потому разнится от культуры к культуре.
Животные не могут осознать всего того, что с ними происходит, поскольку не обладают разумом, а, следовательно, способностью к саморефлексии. Человек же разумом обладает, поэтому ему нужно постоянно от этой реальности отвлекаться. Что такое наша реальность: то же самое - рождение, смерть, секс, старение и т. д. Мы не думаем об этом каждый день - все наши физиологические процессы обставлены целым рядом условностей, а индустрия развлечений, которая также расцвела при капитализме, предлагает миллионы способов от этой реальности отвлечься.
Каждый человек создаёт образ себя, составляя его из тех символических элементов, которые предлагает ему культура - этот образ постоянно претерпевает изменения, в зависимости от ролей, которые мы играем. Мы смотрим на себя в зеркало не для того, чтобы увидеть, как мы выглядим на самом деле, но для того, чтобы увидеть различия между действительностью и тем, что мы представляем себе (т. е., тем, как нам кажется, что/хочется, чтобы нас видели другие) и по возможности эти различия устранить. Мы хотим быть уверенными в том, что играем свою роль безупречно (конечно, это невозможно, поэтому нам приходится мириться с тем, что мы имеем на самом деле). Жизнь человека - своего рода перформанс, который он разыгрывает перед зрителями, которые, в свою очередь, разыгрывают свой перформанс. Мы подсознательно (если не сознательно) постоянно оцениваем наши действия с точки зрения окружающих: будет ли это уместным? обидится ли он? понравится ли это ей? и т. д. Возможно, это прозвучит довольно цинично, но даже при выборе партнёра мы не обходимся без мыслей о том, как мы будем выглядеть вместе с ним/с ней - впишется ли он/она в разыгрываемую нами роль. Конечно, только при поверхностном контакте, до того, как мы узнали человека. Потому что в человеке есть многое, чем можно очароваться. Не в последнюю очередь благодаря тому, что возникают новые мифы, но далеко не только поэтому.
Само по себе возникновение новых мифов не страшно, это естественная потребность человеческой природы, инструмент познания жизни и защиты от реальности. Но знаете что страшно? Что рыночная экономика вторглась в сферу символического и управляет нашими жизнями по своему усмотрению, становясь частью Другого для миллионов людей. Искусство предлагает нам новые мифы, которые доставят нам эстетическое удовольствие, помогут сбежать от жестокой реальности, найти в этой реальности что-то прекрасное и этим вдохновляться. Рекламные мифы создаются с целью заработать как можно больше денег. Конечно, вы это знаете: это и без всех предыдущих размышлений было понятно.
Грустно то, что кому-то рыночная мифология заменяет всё остальное. Кто-то просто не сможет придумать ничего сам, очароваться другим человеком, потому что обнаружит в нём что-то, за что можно этого человека полюбить, а будет гоняться за образом пресловутой парижанки, или кого-то ещё. Прекрасно можно понять несчастных настоящих парижанок, в этот образ не вписывающихся, и многих-многих других, на ком эти самые корпорации и наживаются, заставляя чувствовать себя неполноценными и делать всё для того, чтобы приблизиться к недостижимому идеалу.
Мне кажется, из этой ситуации может быть только один выход: раз мифологизация действительности - часть человеческого естества, разрешить проблему с несоответствием людей существующим мифам можно только путём создания мифов, которые могли бы включить бóльшую часть людей в свою систему - это challenge для художников, режиссёров и всех деятелей искусства.
P.S.: На протяжении последних нескольких лет меня саму преследуют навязчивые мысли о том, что меня оценивают как товар или услугу, а не как человека. Такой страх возник у меня на работе, когда приходилось иметь дело с клиентами, которые не задумывались о том, что перед ними сидит человек, который им ничего плохого не сделал, который просто выполняет свою работу, но сам не является ни товаром, ни услугой, которой они по каким-то причинам оказались недовольны. В первую очередь, этот страх у меня ассоциировался с работой, поэтому поиск нового места сопровождался у меня паникой и мыслями о том, что придётся снова пройти через этот ужас. Но вышло так, что на новой работе я с приятным удивлением обнаружила, что каждого сотрудника и соискателя ценят в первую очередь как человека, а человек, от которого я и в страшном сне не могла такого ожидать, отнёсся ко мне как к вещи, от которой предпочёл избавиться. What a time to be alive!