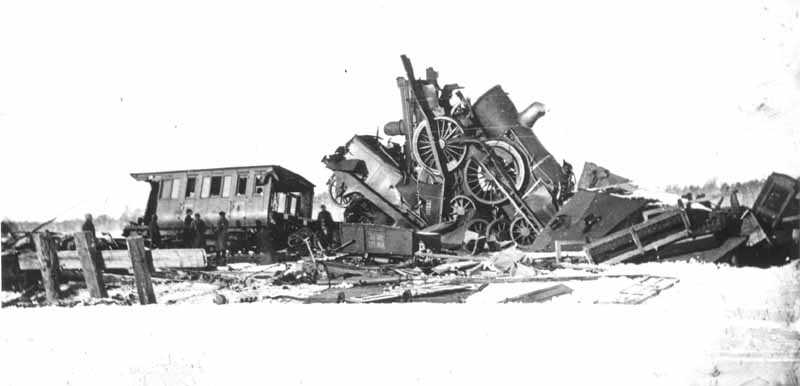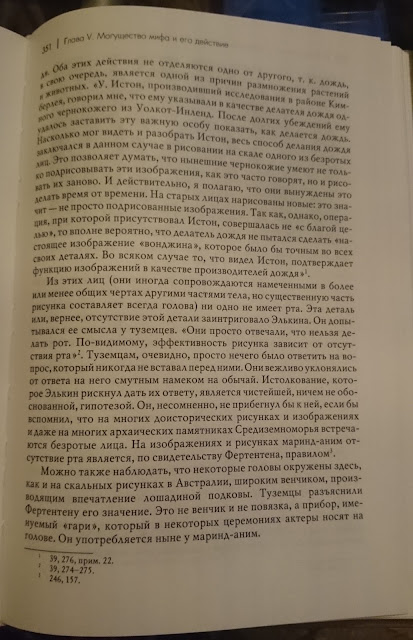(продолжение)
Итак, Гумбольдт заявляет, что "Язык - формирующий орган мысли". Эта идея оказалась близка Эдварду Сепиру, чей интерес к "экзотическим" языкам пробудил Франц Боас, харизматичный профессор антропологии из Колумбийского университета, который был также одним из первых учёных, исследовавших языки североамериканских индейцев. Позднее Сепир вспоминал о своей первой встрече с Боасом и о том, как Боас приводил примеры то из одного, то из другого языка индейцев, опровергавшие все обобщения о структуре языка, которые были известны Сепиру. Сепир понял, что германская филология научила его очень малому, и что ему ещё "только предстоит узнать всё о языке". Тогда-то он и начал заниматься изучением чинукского языка, языка навахо, нутка, яна, тлингитского языка, кучинского языка, ингалик, хупа, паюте и многих других языков, анализируя их с поразительной проницательностью. Сепир выдвинул предположение о том, что родной язык влияет на формирование мыслей.
Эту идею развил его ученик, Бенджамин Ли Уорф. Он занимался изучением языка индейцев хопи и обнаружил, что в нём не находит выражение концепция времени как линейной последовательности событий, а также обнаружил ряд других структурных различий языка хопи с европейскими языками, на основании чего он сделал ещё более радикальный вывод: родной язык определяет и ограничивает когнитивные категории.
Гипотеза Уорфа (т. н. Гипотеза лингвистической относительности, известная также как Гипотеза Сепира-Уорфа) подверглась критике последующих поколений лингвистов (теперь в лингвистическом мире теория Сепира-Уорфа пользуется дурной славой, а любой намёк на согласие с ней считается ужасным моветоном), в первую очередь из-за того, что Уорф не приводил никаких конкретных примеров того, как именно язык может повлиять на мировосприятие носителей. В 1983 году Эккехарт Малотки, который долгое время занимался полевыми исследованиями языка хопи, издал книгу под названием "Время хопи", в которой на 677 страницах, напечатанных мелким шрифтом, приводит многочисленные выражения для обозначения времени в языке хопи, а также парадигму спряжения "вневременных глаголов", в том числе их изменение по временам и видам.
Возвращаясь к нашим несчастным жителям Судана, которых привезли в берлинский зоопарк в 1878 году и экзаменовали на знание названий цветов: выяснилось, что действительно, в их языке отсутствовали слова для обозначения некоторых цветов - в частности, синего. К тому же, классификация цветов, для которых слова в их родном языке были, могла довольно сильно отличаться от привычной нам классификации. Например, зелёный и жёлтый не различались как отдельные цвета, для них использовалось одно и то же слово. Тогда учёные решили проверить: а видят ли они цвета так же, как и мы? Был предложен тест с мотками шерсти: нужно было выбрать оттенки одного и того же цвета и расположить их вместе. И это испытание абсолютно все участники прошли успешно. Этот и множество других фактов заставили исследователей усомниться в верности как предположения о том, что отсутствие слов для обозначения цветов в древних языках указывало на то, что наши предки эти цвета не различали, так и того, что язык предопределяет мышление. Между прочим, если вспомнить о том, что в английском не различаются "синий" и "голубой" цвета, для которых есть общее слово blue, уже не кажется таким странным то, что в некоторых языках народов Африки "зелёный" и "жёлтый" мыслятся как разные оттенки одного цвета. То, что в русском языке используется одно слово - рука - для английских hand и arm, не означает, что носители русского языка не видят разницу между кистью и всей рукой.
В 1938 году Франц Боас высказал проницательное наблюдение по поводу роли грамматики в языке. Он писал, что помимо связывания слов в предложении, грамматика выполняет ещё одну очень важную функцию: она определяет те аспекты опыта, которые должны быть выражены в речи.
Два десятилетия спустя Роман Якобсон, российско-американский лингвист уточнил идею, высказанную Боасом: "принципиальные различия языков заключаются в том, что они должны выражать, а не в том, что они могут выражать."
Иными словами, языки различаются не тем, что они позволяют выразить - в теории на любом языке можно выразить какую угодно идею - но тем, какую информацию они вынуждают носителей сообщать.
К примеру, англичанин может сказать "I spent yesterday evening with a neighbour", не уточняя пол человека, с которым он провёл вечер. В русском языке так сделать не получится: или сосед, или соседка - язык вынуждает нас указывать пол (равно как и в немецком: Nachbar/Nachbarin и во французском: voisin/voisine).
Таким образом, некоторые максимы относительно человеческого мышления оказываются всё же не абсолютно верными.
Вот, к примеру, один факт: философы и физиологи вслед за Кантом утверждали, что пространственное мышление человека по природе своей эгоцентрично и что наши изначальные представления о пространстве сформировались благодаря нашему восприятию мира исходя из проходящих сквозь наше тело плоскостей. Одним из основных аргументов в пользу этого утверждения был, конечно же, наш язык: слева, справа, спереди, сзади и т.д. - слова, которыми мы пользуемся в повседневной речи, описывают положение предметов в пространстве относительно говорящего. Есть, конечно, ещё и географическая система координат: север, юг, запад, восток - но к ней обычно прибегают в том случае, когда говорят о пространственном расположении более крупных объектов - какого-нибудь города, посёлка, острова, страны и т. п. И всё же нам легче, описывая, например, как добраться до нашего дома, использовать эгоцентрическую систему координат: "иди по проспекту, не сворачивая, 3 квартала, потом поверни направо, на следующем перекрёстке - налево, мой дом - прямо напротив "Дикси" - вместо того, чтобы вспоминать, с какой стороны север, с какой - юг и западнее или восточнее "Дикси" находится наш дом, что подтверждает предположение Канта и его единомышленников.
Однако затем был открыт язык гуугу йимитир (из которого к нам пришло слово "кенгуру", кстати), в котором эгоцентрическая система координат не находит выражения вообще. Вместо этого носители языка гуугу йимитир успешно пользуются географическими координатами в повседневной речи. Что только учёные с этими носителями не делали: и с завязанными глазами вокруг своей оси много раз раскручивали и просили называть стороны света, и картинки всякие показывали, и просили рассказать какие-нибудь истории из жизни - всегда один и тот же результат: стороны света они указывают безошибочно, картинки описывают, ориентируясь на стороны света, в воспоминаниях тоже используют их, причём в показаниях не расходятся, если воспоминание было для нескольких людей общим и спустя какое-то время воспроизводят тот же рассказ с теми же сторонами света - помнят, то есть, как всё было расположено, ничуть не хуже, чем мы с нашими право-лево. Говорит ли это о том, что наше мышление отличается от мышления гуугу йимитир? Пожалуй, отчасти да. Не принципиально, но определённо в некоторых аспектах мы воспринимаем мир немного по-разному. Точнее, мир-то для нас такой-же, но мы выбрали разные способы классификации идей, которые для нас этот мир составляют - вот и всё.
А что с синим цветом у Гомера и в других древних языках? Почему не было синего? Почему названия цветов появлялись в той последовательности, в которой цвета расположены в спектре? Гай Дойчер пишет, что однозначного ответа учёные пока что не нашли, но наиболее правдоподобным кажется то объяснение, к которому ближе всех подошёл Глэдстоун: слова для цвета не было, потому что просто не было смысла говорить о цвете отдельно от предмета.
Появление слова для обозначения красного цвета одним из первых предположительно связано с тем, что красный ассоциировался с кровью, которая имела сакральное значение и использовалась в самых первых магических ритуалах. Появление слов для жёлтого и зелёного цветов возможно было связано с необходимостью отличать спелые фрукты, которые преимущественно были жёлтого цвета, от незрелых, сливающихся с зелёной листвой (до сих пор значение "незрелый" сохраняется за словом "зелёный"). Острой необходимости в обозначении других цветов на первых порах у людей не возникало. Синий краситель появился в жизни обычных людей относительно поздно. В древности синюю краску можно было получить только из толчёного лазурита, который добывался только в одном месте - на территории современного Афганистана, что делало его безумно дорогим, а значит, доступным только очень ограниченному кругу лиц. Слово для обозначения синего цвета существовало всё-таки в некоторых языках древности - например, в египетском.
Эту идею развил его ученик, Бенджамин Ли Уорф. Он занимался изучением языка индейцев хопи и обнаружил, что в нём не находит выражение концепция времени как линейной последовательности событий, а также обнаружил ряд других структурных различий языка хопи с европейскими языками, на основании чего он сделал ещё более радикальный вывод: родной язык определяет и ограничивает когнитивные категории.
Гипотеза Уорфа (т. н. Гипотеза лингвистической относительности, известная также как Гипотеза Сепира-Уорфа) подверглась критике последующих поколений лингвистов (теперь в лингвистическом мире теория Сепира-Уорфа пользуется дурной славой, а любой намёк на согласие с ней считается ужасным моветоном), в первую очередь из-за того, что Уорф не приводил никаких конкретных примеров того, как именно язык может повлиять на мировосприятие носителей. В 1983 году Эккехарт Малотки, который долгое время занимался полевыми исследованиями языка хопи, издал книгу под названием "Время хопи", в которой на 677 страницах, напечатанных мелким шрифтом, приводит многочисленные выражения для обозначения времени в языке хопи, а также парадигму спряжения "вневременных глаголов", в том числе их изменение по временам и видам.
Возвращаясь к нашим несчастным жителям Судана, которых привезли в берлинский зоопарк в 1878 году и экзаменовали на знание названий цветов: выяснилось, что действительно, в их языке отсутствовали слова для обозначения некоторых цветов - в частности, синего. К тому же, классификация цветов, для которых слова в их родном языке были, могла довольно сильно отличаться от привычной нам классификации. Например, зелёный и жёлтый не различались как отдельные цвета, для них использовалось одно и то же слово. Тогда учёные решили проверить: а видят ли они цвета так же, как и мы? Был предложен тест с мотками шерсти: нужно было выбрать оттенки одного и того же цвета и расположить их вместе. И это испытание абсолютно все участники прошли успешно. Этот и множество других фактов заставили исследователей усомниться в верности как предположения о том, что отсутствие слов для обозначения цветов в древних языках указывало на то, что наши предки эти цвета не различали, так и того, что язык предопределяет мышление. Между прочим, если вспомнить о том, что в английском не различаются "синий" и "голубой" цвета, для которых есть общее слово blue, уже не кажется таким странным то, что в некоторых языках народов Африки "зелёный" и "жёлтый" мыслятся как разные оттенки одного цвета. То, что в русском языке используется одно слово - рука - для английских hand и arm, не означает, что носители русского языка не видят разницу между кистью и всей рукой.
 |
| Франц Боас |
В 1938 году Франц Боас высказал проницательное наблюдение по поводу роли грамматики в языке. Он писал, что помимо связывания слов в предложении, грамматика выполняет ещё одну очень важную функцию: она определяет те аспекты опыта, которые должны быть выражены в речи.
 |
| Роман Якобсон (справа) с Жаком Лаканом |
Два десятилетия спустя Роман Якобсон, российско-американский лингвист уточнил идею, высказанную Боасом: "принципиальные различия языков заключаются в том, что они должны выражать, а не в том, что они могут выражать."
Иными словами, языки различаются не тем, что они позволяют выразить - в теории на любом языке можно выразить какую угодно идею - но тем, какую информацию они вынуждают носителей сообщать.
К примеру, англичанин может сказать "I spent yesterday evening with a neighbour", не уточняя пол человека, с которым он провёл вечер. В русском языке так сделать не получится: или сосед, или соседка - язык вынуждает нас указывать пол (равно как и в немецком: Nachbar/Nachbarin и во французском: voisin/voisine).
Таким образом, некоторые максимы относительно человеческого мышления оказываются всё же не абсолютно верными.
Вот, к примеру, один факт: философы и физиологи вслед за Кантом утверждали, что пространственное мышление человека по природе своей эгоцентрично и что наши изначальные представления о пространстве сформировались благодаря нашему восприятию мира исходя из проходящих сквозь наше тело плоскостей. Одним из основных аргументов в пользу этого утверждения был, конечно же, наш язык: слева, справа, спереди, сзади и т.д. - слова, которыми мы пользуемся в повседневной речи, описывают положение предметов в пространстве относительно говорящего. Есть, конечно, ещё и географическая система координат: север, юг, запад, восток - но к ней обычно прибегают в том случае, когда говорят о пространственном расположении более крупных объектов - какого-нибудь города, посёлка, острова, страны и т. п. И всё же нам легче, описывая, например, как добраться до нашего дома, использовать эгоцентрическую систему координат: "иди по проспекту, не сворачивая, 3 квартала, потом поверни направо, на следующем перекрёстке - налево, мой дом - прямо напротив "Дикси" - вместо того, чтобы вспоминать, с какой стороны север, с какой - юг и западнее или восточнее "Дикси" находится наш дом, что подтверждает предположение Канта и его единомышленников.
Однако затем был открыт язык гуугу йимитир (из которого к нам пришло слово "кенгуру", кстати), в котором эгоцентрическая система координат не находит выражения вообще. Вместо этого носители языка гуугу йимитир успешно пользуются географическими координатами в повседневной речи. Что только учёные с этими носителями не делали: и с завязанными глазами вокруг своей оси много раз раскручивали и просили называть стороны света, и картинки всякие показывали, и просили рассказать какие-нибудь истории из жизни - всегда один и тот же результат: стороны света они указывают безошибочно, картинки описывают, ориентируясь на стороны света, в воспоминаниях тоже используют их, причём в показаниях не расходятся, если воспоминание было для нескольких людей общим и спустя какое-то время воспроизводят тот же рассказ с теми же сторонами света - помнят, то есть, как всё было расположено, ничуть не хуже, чем мы с нашими право-лево. Говорит ли это о том, что наше мышление отличается от мышления гуугу йимитир? Пожалуй, отчасти да. Не принципиально, но определённо в некоторых аспектах мы воспринимаем мир немного по-разному. Точнее, мир-то для нас такой-же, но мы выбрали разные способы классификации идей, которые для нас этот мир составляют - вот и всё.
А что с синим цветом у Гомера и в других древних языках? Почему не было синего? Почему названия цветов появлялись в той последовательности, в которой цвета расположены в спектре? Гай Дойчер пишет, что однозначного ответа учёные пока что не нашли, но наиболее правдоподобным кажется то объяснение, к которому ближе всех подошёл Глэдстоун: слова для цвета не было, потому что просто не было смысла говорить о цвете отдельно от предмета.
Появление слова для обозначения красного цвета одним из первых предположительно связано с тем, что красный ассоциировался с кровью, которая имела сакральное значение и использовалась в самых первых магических ритуалах. Появление слов для жёлтого и зелёного цветов возможно было связано с необходимостью отличать спелые фрукты, которые преимущественно были жёлтого цвета, от незрелых, сливающихся с зелёной листвой (до сих пор значение "незрелый" сохраняется за словом "зелёный"). Острой необходимости в обозначении других цветов на первых порах у людей не возникало. Синий краситель появился в жизни обычных людей относительно поздно. В древности синюю краску можно было получить только из толчёного лазурита, который добывался только в одном месте - на территории современного Афганистана, что делало его безумно дорогим, а значит, доступным только очень ограниченному кругу лиц. Слово для обозначения синего цвета существовало всё-таки в некоторых языках древности - например, в египетском.